В начало
> Публикации
> Фрагменты книг
Джеймс Уайли
Виват, Приап!
(фрагмент книги: "В поисках фаллоса: Приап и Инфляция Мужского")
Глава 1. Мифология Приапа

 Отправной точкой для нас послужат истории о Приапе, имевшие хождение в Древней Греции и Риме, начиная примерно со второго века до нашей эры и до четвертого века нашей эры.
Отправной точкой для нас послужат истории о Приапе, имевшие хождение в Древней Греции и Риме, начиная примерно со второго века до нашей эры и до четвертого века нашей эры.
Согласно Пафсанию, Приап является ребенком Диониса и Афродиты, хотя в качестве его отца также упоминаются Адонис, Гермес и Пан, а в качестве матери - Хиона. Гера то ли из ревности к Афродите, то ли в ярости от ее промискуитета, добилась того, чтобы Приап родился с огромными гениталиями. В мифах иногда также упоминается большой живот и другие телесные несуразицы.
Громадный половой орган Приапа помогает нам найти точку отсчета для психологической разработки этих историй. Его размер означает также, что мы должны учитывать и скрытый смысл фаллического преувеличения.
Было бы очевидным отклонением в сторону развивать только тему Диониса как отца, ибо сама связь с экстатическим, инстинктивным: танцами, вином, природой и Паном - выступает как противоположность той стороне мужского, которую олицетворяет Аполлон: рассудочность, благоразумие, взвешенность, осмотрительность, дисциплина и так далее - и может быть в достаточной мере понята и без последнего. Приап был рожден инстинктивным физическим экстазом и сексуальностью со стороны матери.
Если же учесть, что наряду с Дионисом, отцовство Приапа приписывают Адонису и Гермесу, то можно обнаружить и кое-что еще: похоже на то, что Приап является плодом прекрасной, юношеской, даже женоподобной мужественности, хотя его несоразмерные гениталии компенсируют только еще нарождающуюся мужественность, благодаря которой Афродита без ума влюбилась в его отца. Так что роль Геры в "уродовании" Приапа можно рассматривать как попытку восстановить своего рода баланс в чувственной привязанности Афродиты; за видимостью возмездия из чувства ревности скрывается своего рода компенсаторная интрига.
Одно из предназначений Приапа - быть "обрезателем грушевого дерева". Фаллическими символами, посвященными Приапу, часто служили деревянные колонны, деревья. Груша считалась священным деревом Геры как верховной богини Пелопоннеса, и наиболее древний образ богини смерти Геры в Микенах был сделан из дерева груши.
Кастрация - тема, имеющая прямое отношение к Приапу, и следует всегда помнить, что его нож для обрезания несет в себе неявный символ оскопления. Кроме того, Аттис и связанная с ним тема самокастрации как результат безумной любви к гермафродичной матери-любовнице, имеют скрытое значение, заслуживающее своего развития в отношении к некоторым формам современного гомосексуализма с его завороженностью фаллическими образами. (Интересно, что кровь из раны Аттиса превратилась в фиалки, которые выросли под сосновым деревом, под которым Аттис и поранил себя.) Именно цвет фиалок имеет длительную и устойчивую ассоциацию с гомосексуальной направленностью.
Юнг отмечает, что греческое слово phallos может обозначать "столб, ритуальный лингам, эмблему фаллического культа, вырезанную из фигового дерева". Римские статуи, изображающие Приапа, также изготавливались из фигового дерева. A phallos и phalanx (фаланга), обозначающая костный сустав - имеют общий корень. Суставы руководят кастрацией, равно как и фаллическим самоуправлением.
Действительно, Юнг распространил корень phal на phallos, который, по его мнению, означает "яркий, светящийся". Он также отметил, что этот "индо-европейский корень означает - bhale, т.е., "переполняться, распухать, наливаться, расти, раздуваться". "Кто, - спрашивает Юнг, - не вспомнит при этом Фауста": "Он светится, сверкает, он сияет и растет в моей руке!".
Юнг дал понять, что наше мифологическое пояснение работает в различных метафорах, демонстрирующих, что правильное отношение к фаллосу, по-видимому, приводит нас к коньюкции, созидающей встрече фаллоса и матки, мужского и женского. Отделение от фаллоса, - фактически, кастрации, - ведет к бесплодию, а также к очарованности phallus'ом, который стремится к обретению себя вновь. Но сам поиск, естественно, возвеличивает значимость искомого объекта. И, по мере того, как ищущий утрачивает психологическое осознавание и путает конкретный символ и цель, его поиск становится бесконечным бесплодным фаллическим исканием, что рано или поздно приводит многих мужчин к психоаналитику.
Глава 2. Приап в классической литературе
 |

Мраморная колонна с головой Гермеса (VI век до н.э.)
|
Мифология, связанная с образом Приапа, представляет его как отделенный фаллос. Такое отделение - результат союза (объединения) между женским (Афродита, Кибела, Агдитис) и юношеским или женоподобным мужским (Дионис, Адонис, Аттис), которое не может привнести в их взаимоотношения вполне сформировавшуюся фаллическую силу. (Преувеличенно невыразительная по мужским качествам скульптура античных времен, возможно, является проявлением как раз такого идеала мужчины в поздней эллинистической и римской эстетике.) Этот специфический союз мужского и женского затем кастрируется; то есть он подавляет фаллос. И тогда фаллос приобретает автономную жизнь сам по себе как комплекс, символом которого и является Приап с его огромным пенисом.
Если Приап - бог, обретающий форму, когда внимание сконцентрировано на относительно нефаллической стороне мужского, то он выступает как некий компенсаторный феномен; и, поскольку он одновременно являет собой и священное и преувеличенное, то несет в себе собственную контр-компенсацию - нож, с помощью которого можно обрезать дерево, придав ему здоровую форму. Таким образом, в фигуре Приапа заложено некоторое равновесие.
Но обычные смертные отличаются от богов и не имеют автоматического доступа к успешным компенсаторным механизмам. Человеческая компенсация склонна, в большей степени, устремляться к противоположной крайности, нежели к поддержанию равновесия. (По этому поводу можно даже поспорить, что подобное отсутствие непроизвольного уравновешивания является главной отличительной чертой богов по отношению к смертным.) У обычных людей компенсация, по-видимому, успешно работает только тогда, когда она стала осознанной, а это требует инсайта и известного волевого усилия. Осознание психологически компенсаторных образов как раз и составляет цель юнгианского анализа.
Поэтому нельзя ожидать, что культура или индивид в дальнейшем превзойдут приапическую форму, - то есть маскулинность, в которой фаллический потенциал осознанно недооценивается, а бессознательно обожествляется - и выйдут к новому равновесию. Скорее, они - он или даже она - будут бросаться из одной крайности в другую, чередуя фазы опасной инфляции с убийственно избыточной упрощенностью и примитивностью, оставаясь в скрытом очаровании самого отрицаемого, фаллического, в каких бы формах оно ни пыталось предъявить себя для реинтеграции.
Наша следующая задача далее будет состоять в описании параллелей к этой мифо-психологической ситуации на основе примеров, взятых, в первую очередь, из литературы.
В рассматриваемый период (примерно с 100 г. до нашей эры до 200 г. нашей эры) нашего внимания заслуживают три документа: "Сатирикон" Петрония, "Золотой Осел" Апулея и собрание главным образом анонимной латинской поэзии, известной как Приапейя или Кармина Приапейя. Рассмотрим их в вышеуказанном порядке.
Главный герой - Энколпий (что приблизительно означает "crotch" - "развилина", "промежность") - явление одиссеи невоздержанности, а сам "Сатирикон" представляет сознательную пародию на гомеровский оригинал. Естественно, что Энколпий столь сильно напыщен (инфляционен): он пребывает в высочайшем мнении о себе как любовнике, распутнике, интригане и обманщике. Его образ жизни оскорбителен для Приапа, который делает Энколпия импотентом, создавая, таким образом, угрозу его самооценке и взаимоотношениям с его любовником Гитоном.
Гитон - раб, с внешней характеристикой, описываемой в романе, как "мальчик, шестнадцати лет, кудрявый, нежный и привлекательный". (Важно отметить, что принадлежность Гитона к мужскому полу вовсе не означает, что он или Энколпий являются гомосексуалистами в современном значении этого слова. Они относятся к обоим полам в том же самом духе, в котором Дон Жуан двадцатого века порхает от блондинок к брюнеткам и обратно) Он олицетворяет тот вид мужского, который у большинства литературных персонажей, как мужчин так и женщин, почитается, как весьма привлекательный. Здесь же речь идет о том виде мужского, которое - в отщепленном виде - порождено Приапом. Это отщепление, как указывалось выше, и приводит к подобной остаточной инфляции.
Энколпий испытывает любые средства, чтобы избавиться от своей рецидивирующей импотенции, кроме одного - пожертвовать своей напыщенностью, претенциозностью. Естественно, ему ничего не помогает. Как результат, фаллический поиск создает канву для всех действий и событий в плутовском романе. По-видимому, Петроний вкладывает в это такой психологический смысл, что если подлинное взаимодействие с фаллосом отсутствует, то инфляция как раз и оказывается тем путем, по которому идет мужское, чтобы хоть как-то себя утвердить.
В то же время, естественно, продолжается и поиск фаллоса. Энколпий мечется с места на место, от одного знахаря к другому, пытаясь восстановить свою потенцию. Здесь удивительно то, что Приап все время неумолим. В конце концов тем, кто возвращает потенцию Энколпию, оказывается Гермес.
Длительные и бесполезные поиски Энколпием Приапа не так уж разнятся от длительных и также бесплодных поисков чувства мужской всесильности, которые можно наблюдать в ночных барах и в конце XX века.
"Золотой Осел", по-видимому, представляет собой тот же вид поиска, но здесь он представлен совершенно по-иному.
О жизни Апулея известно немного, но достаточно для того, чтобы предположить, что в ней также присутствовали взаимоотношения между молодым и красивым мужчиной и зрелой женщиной, послужившие основой для рождения Приапа и необходимости фаллического поиска. Сам Апулей, красивый блондин, мог выглядеть довольно экзотично для мужчины в Северной Африке. Он женился, когда ему еще не было 29 лет, на 40-летней женщине. У Апулея, по всей видимости, был положительный материнский комплекс: Он был из тех мужчин, которые избегают борьбы со своей матерью, с целью высвободить собственную маскулинность. Они ищут спасения в гомосексуальности или в интеллектуальном образе жизни, достигая тем самым исключения женского принципа; как человек, обладавший достаточной долей предприимчивости, он, тем не менее, не мог воплотить свои начинания в жизнь, не смог и преодолеть свою борьбу против материнского принципа. Сам роман и есть тот своеобразный способ, которым Апулей наверстывает то, что ему не удалось в других начинаниях. (Часть гомосексуальной поэзии Апулея сохранилась. Нет полной уверенности в том, что в культуре его времени гомосексуализм был предметом каких-либо обсуждений, поскольку он практиковался достаточно широко и не составлял повода для рефлексии.)
Главный герой Апулея - Луций, предстает перед нами как весьма напыщенный молодой человек, соблазняющий Фотиду, служанку колдуньи, пользующейся дурной славой. Он уговорил ее позволить ему подсмотреть, как ее хозяйка, Памфила, колдовским образом превращается в сову. Естественно, что он пытается испробовать те же самые чары и на себе, но тут происходит путаница, и вместо совы Луций превращается в осла.
В таком унизительном виде он прошел через ряд фантастических, часто носящих сексуальный оттенок приключений. Из этого, по-видимому, следует, что Луций в образе осла олицетворяет психологическое отделение фаллической энергии героя повествования Апулея, и, что сам роман представляет поиск воссоединения. И вновь все завершается не самим фаллическим богом, а, в данном случае, богиней Изидой, которой, в конечном счете, и посвящает себя целиком Луций. Таким образом, фаллический поиск превращается в своего рода бессознательную побочную сюжетную линию в соотношении с сознательным поиском Луцием магической силы, которая, так сказать, выступает как поиск эгоудовлетворения путем инфляции.
Нам никогда не удастся узнать, насколько сам Апулей осознавал то, о чем он писал, или где он находился в своем собственном психо-религиозном путешествии (он был посвящен в некоторые тайные культы), когда описывал это. Но фаллический поиск мужчины, изначально застрявшего в психологической юности, явно прослеживается в виде психологического фундамента самой работы.
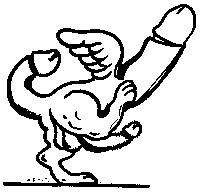
 "Приапейя" - это собрание латинских эпиграмм и стихотворений, посвященных Приапу. В них Приап по-прежнему представлен как покровитель садов. Статуи, посвященные Приапу, обычно изготавливались из дерева, с основанием, весьма схожим с герметическим постаментом - гермой. Основное назначение статуи или алтаря, находящихся среди обилия фруктов и овощей, - это, конечно же, воздать молитвенное благословение приапическим атрибутам и символам плодородия произрастающим плодам. Данный атрибут, имеющий определенную связь с принципом воспроизводства, нашел свое место в большинстве греческих мистерий - таинств - которые узнавались, буквально, благодаря присутствию phallus'a огромных размеров.
"Приапейя" - это собрание латинских эпиграмм и стихотворений, посвященных Приапу. В них Приап по-прежнему представлен как покровитель садов. Статуи, посвященные Приапу, обычно изготавливались из дерева, с основанием, весьма схожим с герметическим постаментом - гермой. Основное назначение статуи или алтаря, находящихся среди обилия фруктов и овощей, - это, конечно же, воздать молитвенное благословение приапическим атрибутам и символам плодородия произрастающим плодам. Данный атрибут, имеющий определенную связь с принципом воспроизводства, нашел свое место в большинстве греческих мистерий - таинств - которые узнавались, буквально, благодаря присутствию phallus'a огромных размеров.
Характер юмора данного произведения носит явно мужской и раблезианский характер, а сама книга полна иронии и сатиры.
Здесь мы приводим два стихотворения из Приапейи. (На русский язык оба отрывка переведены петербургским поэтом Виктором Кривулиным.)
Эй ты, кому так трудно устоять
Над садом яблоневым, брошенным в кровать,
Чей страж, проникнув через заднюю калитку,
Налившись соком, полный преизбытка,
Выходит сквозь парадные ворота
С прекрасными орудьями Эрота,
Все эти пенисы, дрожа от нетерпенья,
Вопьются в жопу, словно пчелы. Наслажденье
От множества работающих членов
Пусть изнурительно, зато оно священно!
Дурак, ты не становишься длиннее,
Не помогают даже руки змею
Восстать, налиться силою, как раньше...
Для распаленных девок ты - обманщик,
Беспомощный малыш. Сгореть им со стыда
И отвращения! Не лучше ли тогда
Быть как Тидей, хотя и малый ростом,
Но взявший мужеством и царским первородством.
Через все собрание постоянно прослеживается обращение к образу Приапа, которое можно считать общераспространенным в римской культуре того времени. Приап делает природу плодородной, если ему приносят жертвы. Если же его не почитают должным образом, он может и покинуть людей. В результате это может привести к неплодородию, потерянным урожаям и даже импотенции. Приап угрожает также и изнасилованием. Само почитание Приапа осуществляется особым образом: созданием скульптурных изображений и установлением гермоподобных образов, под которыми необходимо принесение жертвы.
Главное здесь то, что эти сознательные акты жертвоприношения конкретному фаллическому образу в значительной степени отличаются от грубых и бесплодных фаллических поисков Энколпия и Луция. В подобных жертвоприношениях олицетворяется рационализация простого признания и почитания, рационализация, используемая бесчисленными эго-удовлетворяющими видами и способами. В действительности, жертвенная установка значительно ближе к тому виду осознанного понимания психологических фактов, которое воспитывается современным юнгианским анализом, чем установка на эго-инфляцию XX века.
Точно такая же установка присутствует и в фаллических украшениях, и статуях, обнаруженных в развалинах Помпеи и Геркуланума. Подобные образы обычно цитируются как свидетельство распущенности и похотливости (бездуховности) римской культуры первого века нашей эры. Но, если рассматривать их с точки зрения отношения к фаллическому, обнаруженному в "Приапейе" (собственно, а почему они должны не быть?), они не столь уж чувственно-похотливы; скорее, это не похотливость, а осознание - порой даже интуитивное - той психологической истины, к которой они так стремятся. (Это могло бы означать, что некоторые современные представления о сексуальных установках античного Рима могут попросту оказаться проекциями того, что наша культура в себе даже и не замечает).
Теперь мы можем вернуться к вопросу, почему Приап не вернул назад то, что до этого сам же и отнял, то есть не восстановил то, что обрезал. Если вернуться обратно к его родителям, то можно обнаружить, что для Приапа восстановление потенции было бы действием по восстановлению бессознательного, иными словами, зацикленного на своей матери юношеского бессознательного, бессознательного относительно своего фаллического потенциала и завершенности.
Стремление к этому приятному состоянию юношеской и девственной инфляции - счастливое могущество Энколпия или убежденность Луция в том, что он может стать сверхчеловеком с помощью магии, - в общем понятно, и оно повторяется всякий раз, когда анализанд выражает подобное желание, чтобы терапия восстановила прежнее минувшее счастье, которое основывалось на преувеличенной (инфляционной) эго-позиции. Но это невозможно, также как невозможно преднамеренным образом воссоздать былое состояние бессознательного. Незаживающие раны, которые приводят человека к психоаналитику, не могут быть уничтожены просто так, поскольку они являются результатом столкновения с окружающей действительностью.
Новая реальность требует и новой, более сознательной адаптации. Это означает, что необходимо привлечь средства или возможности другого божества. Другими словами, фаллический поиск, по-видимому, является поиском путей восстановления бессознательного, и поэтому с самого начала обречен на поражение. Анализ же должен привести к отказу от подобных исканий, с тем, чтобы "другие боги" - до сих пор дремлющие бессознательные потенциальные возможности - могли бы вступить в дело, в результате чего могла бы быть выработана и новая адаптация к изменившимся жизненным условиям.
В "Золотом Осле" восстановление Луция описано более полно. В образе осла, он, естественно, терпит своего рода унижение и затянувшуюся утрату собственной личности. С ним обращались донельзя плохо, да к тому же он еще был вынужден беспомощно наблюдать то, как дурно обращаются и с другими. Поначалу, про себя, он горько оплакивал свою судьбу, но постепенно смирился с этим и, таким образом, превратился в более послушного осла, а впоследствии в довольно-таки изобретательного. В результате с ним стали обращаться более человечно.
В конечном счете Луций увидел сон с участием богини Изиды, которая сообщила ему, что он должен принять участие в церемониальной процессии, устраиваемой в ее честь. Один из священников в этой процессии, также видевший подобный сон, узнал, что если накормить осла розами, тот снова превратится в Луция-человека. Однако, он не станет прежним Луцием. Теперь ему предстоит сделаться новопосвященным в качестве жреца (священнослужителя) богини Изиды, включая принесение денежных пожертвований и следование строгому образу жизни, совершенно не похожему на тот, который он вел прежде.
По-видимому, это подтверждает точку зрения Юнга и Гете, рассматривавшуюся в первой главе, которая заключается в том, что осознанные взаимоотношения с фаллосом ведут к творческому (созидательному) союзу с безличным женским - coniunctio (конъюнкции), оказывающейся трансформативной: увиденная во сне Изида привела к преображению осла в человека.
Говоря о такого рода взаимоотношениях мужского и женского, о подобном созидательном союзе, мы имеем в виду архетип родительской пары. Сознательное подчинение приапическому в некогда напыщенной инфляционной юности трансформируется впоследствии в том смысле, что позволяет мужчине действовать творчески и созидательно уже в роли отца.
Глава 3. Приап в истории XX века
 |

Терракотовая маска в форме поилки для скота (Помпеи)
|
Рассмотрим еще одно литературное произведение, которое должно помочь нам перенести мифологический материал из античных времен в современность. Обратимся к новелле Томаса Манна "Смерть в Венеции", так как в ней можно найти миф о рождении Приапа, перенесенный в Европу XX века в неискаженном виде. Но в наши дни из него следуют совершенно другие выводы.
В отличии от Луция и (возможно) Энколпия, герой Манна - Густав фон Ашенбах - не получает никакого жеста (значимого действия) относительно востановления фаллоса. В его ситуации или установке должно быть что-то, что предохраняет миф о Приапе от достижения его предполагаемого разрешения.
Когда мы встречаем Ашенбаха, он описывается как человек, постоянно сталкивающийся с некоторыми затруднениями по отношению к собственной репутации. Здесь мы видим, конечно же, пример состояния инфляции, то есть преувеличенная идентификация с созданным эго-образом персоны, который до сих пор еще свойственен нашей культуре. Далее мы можем предположить, что здесь имеет место диссоциация с фаллосом, и, что сам фаллос может быть представлен в психике Ашенбаха в виде навязчивой идеи, требующей реинтеграции с помощью принесения жертвы образу персоны. Это своего рода современный эквивалент принесения жертв богу Приапу в античные времена для того, по-видимому, чтобы предотвратить как раз такое несчастье как то, что выпало на долю главного героя романа.
Приехав в Венецию, Ашенбах повстречался там с Тадзио. На первый взгляд может показаться, что путь от экстатического бога, породившего Приапа, до ангелоподобного 14-летнего Тадзио невероятно долог. Но, также как и Дионис, похищенный пиратами, которые приняли его за беспомощного мальчика, довел своих похитителей до безумия и гибели, Тадзио убивает - или (поскольку это XX век) доводит Ашенбаха до одержимости.
Мы снова обнаруживаем тему околдованности красивой и прекрасной юностью, которая, вероятно, имеет существенное значение для рождения (возникновения) Приапа. Но в культуре времен Ашенбаха, в отличие от античности, подобное очарование оказывается недопустимым, неприемлемым, а потому и гораздо более опасным.
Томас Манн осознавал, какие мифологические параллели может вызвать его произведение. Первая встреча Ашенбаха с Тадзио носит явно эротический оттенок, особенно там, где описываются взаимоотношения мальчика и его матери, а также отношения с сестрами и гувернанткой. Это напоминает в чем-то любовный роман Диониса и Афродиты.
Зная, что Диониса воспитывали как девочку и что у него были длинные волосы, что в античные времена жемчуг был тем камнем, который в большей степени, чем другие ассоциировался с Афродитой, все возможные сомнения относительно намерений Томаса Манна провести подобные мифологические аналогии рассеиваются.
Автор напоминает и о других юношах из мифологии. Для Ашенбаха Тадзио олицетворял собой "голову Эрота, в желтоватом мерцании паросского мрамора, - с тонкими суровыми бровями, с прозрачной тенью на висках, с ушами, закрытыми мягкими волнами спадающих под прямым углом кудрей".
Красивый мальчик завладел умом Ашенбаха, но какие-либо действия были совершенно непредставимы для него, и это привело его к парализующему, компульсивному вуайеризму, болезненному неотвязному подглядыванию. Подобное отношение к такой одержимости, обсцессивности прямо противоположно тому, что существовало в античные времена. Манн напоминает нам об этом, сравнивая Тадзио и Ганимеда.
Здесь мы сталкиваемся с различием, существующим между культурой времен Ашенбаха и античной культурой. Когда Зевс под видом орла унес Ганимеда на небеса, чтобы тот стал виночерпием для богов, юноша "порадовал (взор всех) своей красотой". Но Ашенбах не мог наслаждаться юношеской мужской красотой, не испытвая при этом всепоглащающего чувства вины, отравляющего его существование. Возможно именно поэтому мифическая аналогия переходит от успешного похищения Зевса к страстной влюбленности Аполлона к Гиацинту, которая закончилась несчастием, так как ревнивый Зефир убил юношу с помощью диска (по другой версии сам Аполлон нечаянно убил своего любимца во время метания диска).
Таким образом, Ашенбах по-прежнему оказывается не в силах справиться со своей одержимостью. Он становится импотентом, потому что не чтит и не действует в соответствии с фаллическим компонентом своей маскулинности, живя вместо этого инфляционной жизнью, ограниченной тем, что является приемлемым для эго.
Секрет Ашенбаха, скрытый даже от него самого, - это Приап; и его установку по отношению к своей собственной тайне Манн продемонстрировал в уравнительной аналогии с коллективной тайной Венеции, - со смертельной вспышкой азиатской холеры.
Перед лицом подобной сознательной установки можно было бы ожидать, что фаллическая сила всплывет в сновидениях Ашенбаха, - именно так все и случилось. В новелле же сну предшествуют несколько ссылок (упоминаний) на дионисийскую оставленность. Как будто автор специально готовит читателя к встрече с юношеским образом Диониса и его приапическим детищем, столкновение с которым неизбежно для главного героя из-за его растущей одержимости по отношению к Тадзио: Ашенбах следует за юным Тадзио и его сестрами по всей Венеции.
Таким образом, создавалась сцена для сна Ашенбаха, который может быть описан как слишком сильная, преувеличенная компенсация. Сон Ашенбаха противопоставляет ему образы того, чего ему не достает, то есть, приапического, которое отделялось от него на протяжении всей жизни. Но, в отличии от Луция и Энколпия, Ашенбах не может испытать "бесстыдную деградацию своего падения", так как его культура, в отличии от их, рассматривает все, что символизирует сон, как полностью неприемлемое. В дионисийском принимается все, кроме его красоты, которая и персонифицируется с образом Тадзио, и, как мы уже видели, даже обыкновенная реакция на нее наполняет Ашенбаха бессознательным чувством стыда.
Но Тадзио, тем не менее, символизирует все, что присуще Дионису, включая и само приапическое. Эта крайняя и непреодолимая форма дионисийского прорывается в сон Ашенбаха, пытаясь через него проникнуть в психику, несмотря на то, что это не может этого допустить. Именно в этом заключается причина судьбоносной силы юного Тадзио.
Ответная реакция Ашенбаха - трогательна и фатальна, заранее предопределена. Манн так говорит об этом: Ашенбах олицетворяет "всю структуру культуры его времени" и не может отказаться от надежд, связанных с этим олицетворением . В действительности же у него есть два выхода из создавшегося положения. Он может либо отбросить свою персону и признать, как это был вынужден сделать Луций: "Я - осел" и в результате затем страдать от деградации и унижения. Другой выход - он может умереть. Так как Ашенбах не может выдержать первое, он выбирает второе.
Поведение Ашенбаха после увиденного им сна почти невыносимо гротескно. Он красит волосы и, начиная с чрезмерной заботы о своих галстуках, украшениях и одеколоне, в конце концов, приходит и к использованию косметики. Он воспринимает все наоборот. Считая, что все, чего ему не хватает, - это юности. Он думает, что различные ухищрения помогут ему ее вернуть. Мы видим, что главный герой выбрал неверный путь. Его тайные и навязчивые фантазии продолжаются. Он преследует Тадзио даже более настойчиво и умирает, возможно от холеры, наблюдая за мальчиком на берегу моря.
В контексте того времени, культуры и личности самого Ашенбаха смерть не выглядит печальной. Главный герой подошел к тому, чего ему недоставало, так близко, как только можно, и умер в, по-видимому, счастливом созерцании этого. Подойти еще ближе означало бы для него унижение, что было неприемлемо. Даже когда Приап обратно сокращает инфляцию, унижение по-прежнему остается единственным выходом. А неприятие унижения означает смерть. Совершенно ясно, что наша культура имеет много общего с культурой времен Ашенбаха, и те пути, которые открываются, на первый взгляд, перед многими мужчинами сегодня, когда они лицом к лицу сталкиваются с дефляцией (разрушением) персоны, с которой они бессознательно себя идентифицировали, вряд ли более привлекательны, чем те, перед которыми оказался Ашенбах.
Некоторые мужчины выбирают духовную смерть, а не следование вышеуказанным путям. В то время как очень многие, для кого крах, падение не является всеобъемлющим, проводят остаток своей жизни, поддерживая старую персону, хотя косметика и становится все более крикливой и с каждым годом делается все труднее ее поддерживать. Именно на основе подобного рода вещей базируются, по-видимому, крайние проявления современного machismo ("самец"). Где же тогда выход? В чем альтернатива? Предлагать метафорические полумеры типа воссоединения с фаллосом, уподобления дионисийскому, движения к conuinctio и т. п. легко, но природа определенного кризиса Ашенбаха, видимо, ведет к тому, что подобные полумеры оказываются даже менее полезными, чем обычно.
Импотенцию трудно рационализировать, и если альтернатива представляется не только неприемлемой, но и непристойной, чтобы разрешить дилемму, то она становится более серьезной и глубокой. (Трудно спорить с тем, что Ашенбах должен был попробовать соблазнить Тадзио и вернуть его обратно в Мюнхен). В действительности античные литературные источники предполагают, что единственной альтернативой является унижение, но и оно вряд ли более приемлемо для мужчин сегодня, чем это было в 1911 году, когда Томас Манн написал свою новеллу "Смерть в Венеции". Признание физической эротической потребности, сопровождающейся земной несдержанностью, видимо, было более унижающим, чем это мог вынести Ашенбах.
На индивидуальном уровне отказ Ашенбаха от унижения привел его к смерти. Из этого может следовать, что и на коллективном уровне отказ от унижения может привести к тому же, но в большем масштабе. Действительно, актуальность проблемы инфляции мужского в нашей культуре не подлежит сомнению, так как правительство, находящееся в состоянии инфляции, имеет сейчас возможность выбрать смерть вместо унижения миллионов людей.
Единственно возможное решение, вероятно, может быть найдено в каком-либо способе облегчить мужчинам конца XX века своего рода трансформативное унижение, опробованное Энколпием и Луцием.