В начало
> Публикации
> Фрагменты книг
Юрий Юркун
Шведские перчатки. Часть I
(фрагмент книги: "Дурная компания")
Посвящается самому дорогому
мне человеку и другу
ГЛАВА I


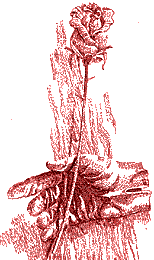 В лавке моего отца, на улице Жандармов, против театра водевилей Pieknosci, было всегда много народу.
В лавке моего отца, на улице Жандармов, против театра водевилей Pieknosci, было всегда много народу.
Летом, может быть, способствовало этому то, что лавка съестных припасов находилась в подвале, так что случайные покупатели, которые, купив сахару или спичек, тотчас же после расплаты удалялись, приходили туда редко.
Торговле способствовал также и театр; днем собирались актеры, ушедшие с репетиции, чтобы распить бутылку-другую (только у нас) превосходного лимонного квасу.
Вечером же, по окончании спектакля, (но это не очень интересно) всякий спешил купить то колбасы, то хлеба, то свечу, то огурцов - и скрывался.
Закрывалась лавка в час ночи, начинала же свою торговлю она с шести утра.
С самого открытия ее тотчас же появлялись люди.
Первыми были всегда рабочие: маляры, плотники; затем шли служанки, часов в десять в лавку являлись добрые знакомые, завсегдатаи, политики, монархисты, революционеры.
Из этого я сделал вывод, что мой отец был очень умным и разносторонним, как и вообще следует быть всем хозяевам мелочных лавок.
- Хозяева мелочных лавок, - это, дорогие мои, не провизора, - говорил один завсегдатай, очень милый старик, с кокардой на красном околыше.
- Это, сударь, выше; провизор - это что? Он только по своей отрасли! А дальше он ничего не знает. Хозяин же мелочной лавки, - (он был вежливым и не хотел поэтому лентяйничать, т. е. сказать вместо "хозяин лавки", что было значительно длиннее, просто и кратко - лавочник), - это - редактор, - говорил он, - да и то выше!
Но так как старичок с кокардой на красном околыше говорил о достоинствах и высоком значении всех господ хозяев мелочных лавочек очень долго и путанно, то я из вежливости к вашему терпению не стану передавать этого философского монолога, а перейду просто к дальнейшему перечислению покупателей и посетителей лавки моего отца.
После добрых знакомых и "завсегдатаев", которые не уходили до обеда, т. е. до двух часов дня, являлись в двенадцать актеры.
Самыми интересными посетителями они-то и были, по крайней мере, для меня.
С их появлением лавка оживала, сыпались остроты, пелись песни, рассказывались анекдоты, подчас и очень даже неприличные, ибо стесняться там не было кого, - нет, положительно это были самые веселые люди, каких только видела наша лавка!
Актеры! Я к ним очень был даже неравнодушен. Неравнодушие мое, как оказалось, разделял на добрую половину и мой отец.
Да и как можно было не любить их? В моей судьбе они сыграли большую роль. На четырнадцатом году моей жизни я уже узнал кулисы в качестве исполнителя малолетнего французского принца.
Помню как нельзя лучше день приглашения меня на сцену.
ГЛАВА II
Доходы, приносимые мелочною лавкою, дали возможность моему отцу поместить сына своего, т. е. меня, в городское училище, где, между прочим, он находился от восьми до двенадцати, ничего не делая.
Однажды, а было это в субботу, возвратившись по окончании уроков домой, я бросил свои учебники на верхнюю полку, где стояли сигары, так неудачно, что коробочки их, а они, как всем известно, бывают со стеклышками - разбились.
И я, примирившись с этим обстоятельством, так как в лавке был только отец, стал стоять смирно, ожидая получить следуемый подзатыльник.
Но благодарение Господу, на лестнице, ведущей в лавку, появилась чья-то фигура, и отец, решив отложить до более удобного момента следуемое мне вознаграждение, надел очки и, приняв важную позу, стал за выручку.
В лавку вошел сам режиссер театра водевилей и, сморкаясь в синий с белым горошком, грязный платок, подал правую свободную руку отцу.
- Добрый день, пан Антоний, - спрятав носовой платок в карман и глядя на меня, сказал отцу режиссер.
- День добрый, - ответил тот.
- Я к пану Антонию с просьбой, - продолжал режиссер. - Мне нужен этот малыш на сегодняшний вечер. - Указав на меня, он опять вынул платок и, пожаловавшись на насморк, стал ждать ответа.
Отец, не заставив долго ждать его, согласился, и я, надев картуз, радуясь ангажементу, равно как и избежанию награды за разбитые коробки, последовал за режиссером.
Пройдя по темному коридору, с рядом разных дверей по бокам, где так сильно пахло столярным лаком и скипидаром, режиссер, поднявшись на ступени, ввел меня в большую комнату, напоминавшую сарай; по бокам и наверху висели и торчали разные тряпки, разрисованные и нет. В комнате этой, освещенной лампочками и свечами, сидели и стояли актеры, одетые в разные смешные костюмы.
Режиссер, подойдя к даме, одетой во все черное, но с белым большим кружком на шее, подозвав (так как я остался у входа) меня и говоря этой даме: "это расторопный малыш, он будет пригодным", толкнул легко меня к ней.
Дама в черном, потрепав белой рукой, от которой шел такой приятный запах, меня по щеке, сказала:
- Вот сын мой, моя гордость. Ваш будущий король!
Стоявшие на почтительном расстоянии от нас, актеры заговорили вдруг все разом, а потому и трудно было разобрать - что.
Одни протестовали, что я король, другие - соглашались как будто с этим, а режиссер, приведший меня туда, кричал: - Громче! Отчетливее!
ГЛАВА III
В накрахмаленном жабо, в длинных, доходящих дону не будем говорить до чего, голубых чулках, с раскрашенным лицом, я чувствовал себя, как на пароходе.
Комната, напоминавшая мне прежде сарай, совершенно была неузнаваема: в ней было теперь масса свету, затем нашитые на рамах, прибитых к потолку и полу, висели разрисованные полотнища, изображавшие сад; актеры бегали и суетились, все спрашивая о чем-то человека с книгою в руках, который был одет в белый халат, похожий на те, какие носят парикмахеры.
Будучи уже одетым и достаточно раскрашенным, я не знал, куда себя девать; пойдя в комнату, напоминавшую мне прежде сарай и будучи прогнанным оттуда, несмотря на мой костюм принца и звезду на груди, каким-то грязным рабочим, я прошел в маленькую комнату, обитую розовою бумагою, где одевалась дама в черном с большим белым кружком на шее, так как лучше и больше чем со всеми остальными, не исключая даже режиссера, я с нею был знаком.
Дама одевалась; на ней не было в то время ни темного платья, ни белого кружка, она была в розовом корсете и в полосатой нижней юбке. Так как дверь комнатки, где одевалась дама, была настежь открытой, то я незаметно для одевающейся вошел и, не говоря ни слова, остановился у стены, где висели разные кофточки и юбки.
Дама долго не замечала меня; она стояла против большого, в рост человека, зеркала, и то расстегивала у самой груди корсет, рассматривая и поправляя в нем что-то, то застегивала его опять. Окончив это, она принялась за натягивание длинных, таких же размером,
как и у меня, но черных чулок, причем юбку полосатую она подымала так высоко, что я опускал книзу глаза.
Покончив и с этим, она обернулась, и тут заметила меня.
С секунду помолчав и поглядев на меня не без изумления, она рассмеялась и, взяв меня за подбородок, своими раскрашенными и горячими губами прижалась к моим.
Я помню, что из уст ее шел запах не очень хорошего пива, поэтому я очевидно сморщил лицо; она заметила мою гримасу и сказала:
- Тебе не нравится, что у меня раскрашенные губы? - и не ожидая возражения с моей стороны, она, поцеловав меня еще раз, добавила: - Ты не уходи из театра, когда окончишь играть, а дождись меня в этой уборной, я тогда разгримируюсь и поцелую тебя хорошо.
Так как она после сказанного моментально начала одеваться, а меня кто-то звал по имени на сцену, то я, не успев дать ей устного согласия, торопливо выбрался из комнаты, которая называлась уборной.
ГЛАВА VI
Очутившись в коридоре, где толкались разодетые в разные костюмы актеры, я начал оглядываться: кто бы мог меня звать?
Как вдруг ко мне подбежал человек, одетый в белый парикмахерский халат; он, схватив бесцеремонно меня за рукав, потащил в ту комнату, которая называлась сценой.
Теперь там было тихо; на самой середине этого фальшивого сада стояла скамейка, на которой сидели два актера, одетые так же, как и я, в синие костюмы и голубые чулки; за плечами, как и у меня, у них был короткий плащик с расшитым торчащим воротником.
Актеры о чем-то разговаривали между собой.
Между тем человек в белом халате, не выпуская моего рукава из своей руки, объяснял шепотом следующее:
- Ты, малыш, когда выйдешь вот с этим господином, который будет держать тебя за руку, - он указал, на рядом стоящего со мною человека, с рыжей бородою, одетого во все черное, - то прямо, как он тебя выпустит из рук, ты подбегай к тому господину, который вот только что встал, понимаешь?
Я ответил, что понимаю,
- Приготовьтесь, - тихо сказал он, поднимая правую руку кверху.
Человек в черном с рыжею бородою взял меня за руку, и мы пошли к скамейке, где сидели два актера.
Я выполнил точно свою роль, как мне ее объяснили. Подойдя к господину, который при нашем появлении встал и, протянув руки к нему, которые он взял в свои, я начал осматривать публику, сидевшую в темноте и уставившую на нас свои глаза. Мне стало очень неловко, я почувствовал, как я покраснел, здесь было очень жарко, актер с рыжею бородою меня поворачивал, поднимал, актеры, одетые в синие костюмы, волновались и возмущались этим, но публика в темноте смеялась на каждое слово рыжебородого.
Наконец впереди занавес опустился и я перестал видеть публику; не успел он, собственно, как следует еще опуститься, как публика стала кричать что-то, начала хлопать в ладони, занавес опять поднялся, крики и стук усилились, актер с рыжею бородою и оба актера в синих костюмах начали кланяться, что приказали делать и мне; после этого занавес опять опустился и мы все четверо ушли со сцены.
В коридоре меня встретил человек в белом халате; погладив меня по голове, он сказал: "Молодец, хорошо, спасибо!", я ответил, что не стоит благодарности. Мне пришлось через полчаса выйти опять на сцену.
Теперь там была та же самая дама, которая в своей комнатке меня поцеловала, затем было еще много других актеров. Это было уж не в саду, а в богатой, богатой комнате, похожей на костел.
Дама в черном, которая меня поцеловала, теперь оперлась рукой на мое плечо и о чем-то долго говорила со стоящими на небольшом расстоянии от нас актерами, затем она, выдвинув меня немного вперед, громко крикнула:
Вот сын мой, моя гордость!
Ваш будущий король!
Актеры, как и тогда, когда меня привел режиссер, начали спорить, протестовать, затем занавес опустился, потом поднялся, мы раскланялись и, когда он опустился вторично, все ушли со сцены.
ГЛАВА V
Помня приглашение дамы, я по коридору направился в ее уборную; не успел я еще дойти до ее дверей, как, встретив меня, тот человек, который одевал всех, потащил мою милость переодеваться в мой обыденный костюм "на верх". С меня сняли красивый костюм принца и вернули мой обыкновенный, - ученика.
Переодевшись, я направился опять по коридору в уборную дамы; теперь я дошел до нее благополучно. Не найдя в комнате никого, я остановился у зеркала и стал в него глядеться; росту я был приблизительно такого, какой принято называть "средним". Немного длинные ноги, - но это отчасти хорошо, - талия выше! Она у меня довольно стройной уж и в то была время, волосы темные, носил я их с боковым пробором, причесывая, делал кок; глаза - серые. Что меня смущало, это то, что не появлялось даже следа растительности; конечно, в четырнадцать лет...
Разглядев свое лицо и найдя кожу на нем немного темной, я взял пуховку, но в это время влетела моя дама. Закрыв за собой дверь, она обняла меня и, посмотрев секунду в глаза, мотнула головою и прижала к моим устам свои раскрашенные. Выпустив из своих объятий меня, она вопросительно и, мотнув головою, сказала: "Да?"
Не знаю почему я не спросил, что означает "да", а ответил, непроизвольно совсем, тем же словом, с разницею только в ударении. Она засмеялась, завертела меня мельницею, потом остановившись и погладив по голове, ласково тихо сказала: "Милый!" и громко добавила: "Ты, мальчик, выйди; я переоденусь" Я послушно удалился; попав опять в неизбежный коридор, я припомнил, что к моему полному облачению недоставало картуза и кушака. Поднявшись по лестнице в комнату, где разоблачали и облачали меня - "его величество", я приступил к розыскам моих вещей. В комнате среди набросанных в беспорядке тряпок и костюмов я застал человека, которого, я помнил, все без исключения актеры называли портным; я спросил его, не имел ли счастье господин портной видеть моего картуза и кушака, но он предложил мне самому заняться розыском, ответив, что не видел их. Вежливо принялся я разбрасывать тряпки и вскоре потерянные вещи нашел под коричневым плащом, на котором лежал сверху какой-то разрисованный поднос; надев картуз и застегнув кушак, я пожелал доброй ночи господину портному.
ГЛАВА VI
Время, прошедшее за розыском, я счел достаточным, чтоб дать его на одевание дамы. Я постучал в дверь и, получив разрешение, вошел. Дама застегивала кофточку, стоя у зеркала; на полу валялось темное с большим кружком платье; выбрав старое место у стены, где висело столько кофточек и юбок, я стал дожидаться распоряжения.
В коридоре шум затих. Дама очень долго возилась со своим лицом: она сначала намазала его какой-то мазью; стерев ее сейчас же полотенцем, она стала натирать сильно щеки красной пуховкой, затем, проведя по всему лицу белой, на которой была пудра в большом количестве с запахом ванили, дама обернулась ко мне, сказав, что готова.
Я надел картуз.
- Тебя, мой Нарцисс, дома не ждут?
Было всего десять часов.
- Я до двенадцати могу пробыть в театре.
Мой ответ ее очаровал.
- Какая прелесть! Малыш - и такой плут! - Она еще раз поцеловала меня; теперь из уст ее шел запах ванили и рома.
- Тебе, мой Адонис, не холодно?
Была осень, но холода еще не наступали, я ответил отрицательно.
Мы сели в коляску, по дороге она сжимала мои руки, дышала в лицо; на Бернардинской коляска остановилась; выходя из нее, дама мне сказала:
- Меня зовут Амброзия, пани Амброзия.
Я повторил: "Пани Амброзия".
Отворив низенькую калитку, мы вошли в палисадник. Я знал этот дом; проходя в училище, я любовался всегда его фисташковой окраской. Когда мы вошли в темную прихожую, навстречу выбежала с лаем мохнатая белая собачка; из комнаты, через открытую дверь которой шел в прихожую розоватый свет, послышался смех. За паней Амброзией я пошел в гостиную.
У круглого стола, покрытого ярко-желтой скатертью, на котором стояла лампа, льющая розоватый свет, сидели две очаровательные барышни, похожие до капли одна на другую; перед ними на столе лежали карты; одна из барышень чему-то смеялась, в то время как вторая была печальной. Лишь только мы с паней Амброзией появились, как обе они встали из-за стола и, подбежав к пани, поцеловали ее, - одна в одну, другая в другую щеку.
ГЛАВА VII
Как оказалось из последовавшего разговора, обе барышни были дочерьми пани Амброзии. Первая, которая при нашем появлении чему-то очень смеялась, носила имя Барбары, вторая же, склонная более к грусти, называлась Марией; в них обеих было все одинаково за исключением платьев: маленького роста, миниатюрные, у Барбары волосы были несколько темнее Марии, личики пухлые; впоследствии мне эльфы представлялись ими: обе сестры страшно чем-то напоминали эльфов; несмотря на поразительное сходство, мне все-таки сразу понравилась Барбара, почему? - мне трудно ответить. Отправившись распорядиться чаем, пани Амброзия оставила меня с дочерьми. После короткого молчания Мария меня спросила:
- Вам не снятся ангелы? - Голос у нее был такой милый.
Я ответил:
- Нет! - Тогда в разговор вмешалась Барбара:
- Моей сестре снятся ангелы: такие белые, с крыльями; они даже ими хлопают. - Голос Барбары мне еще больше понравился,
Скоро явилась пани Амброзия, а за нею и самовар, последний в комнату внесла какая-то старушка, напоминающая клубок: Барбара и Мария звали ее бабушкой.
Пыхтя сильнее самовара, бабушка, последний поставив на стол, заявила, что отправляется за чайником; лишь только руки ее оказались свободными, как я, привстав и шаркнув ногою, приложился к ним; бабушка, поцеловав меня в голову, не спрося даже имени, покатилась за чайником в прихожую.
Прихожая была и кухней, как и гостиной столовая. За чаем пани Амброзия расхваливала меня, как актера, своим дочерям, бабушка все сопела почему-то в передней и к столу не подходила, - поэтому я предположил ее не настоящей, но как оказалось после, я ошибался: она была настоящей бабушкой.
Осматривая после чаю комнату, я увидел на стене в бархатной рамке портрет какого-то военного, безусого; Мария, все показывавшая мне и пояснявшая, заявила, что это портрет ее брата; он - гусар, служит в столице, женатый, ему двадцать четыре года.
Пани Амброзия в самовар положила какую-то душистую травку; по комнате разошелся запах, было так тепло, самовар не переставал шипеть, я сидел на диване, на коленях у меня лежала мохнатая собачка, такая смешная, теплая; с правой руки сидела Мария, перелистывая большой старый альбом, где были важные военные, старые и молодые дамы. (Одна дама была очень похожа на мою матушку.)
Пани Амброзия сидела передо мной на корточках и изредка тоже поясняла, знакомила родственников по фотографии; с левой руки, совсем близко, нагнувшись к альбому, сидела золотая, милая Барбара.
Ах как было хорошо! Протягивая ручку свою маленькую к альбому, она ею прикасалась к моему подбородку, я нарочно даже нагибался ниже, но чтоб не поцеловать ее, удержаться, я сжимал зубы. Когда пани Амброзия заявила, что пора спать, мне так тяжело было прощаться.
ГЛАВА VIII
 |
На следующий день после знакомства с паней Амброзией и посещения ее дома, мне не пришлось идти в училище, так как отец мой, уехав на вокзал принимать присланные семь ящиков вермишели, оставил в лавке меня полным хозяином. Матушка моя была занята ежедневно, и в лавке ее можно было видеть лишь вечером. У костела Св. Екатерины она торговала молитвенниками, четками, крестиками. Занималась матушка этой торговлей из убеждения, она была религиозной до фанатизма, Я любил свою матушку; несмотря на то, что мы часто с ней спорили, и она любила меня. Несколько полная, высокий лоб, глаза как у меня - серые, прямой нос, губы сжатые; я был на нее похож, так все говорили, хотя лоб у меня наоборот был низким, нос слегка кверху (за что, между прочим, меня и полюбила одна швейка - Клара). Так что значит в глазах только с моей матушкой у меня было небольшое сходство, кроме их цвета, которое всех в заблуждение и вводило. Хотя глаза - это главное, если верить одному постоянному завсегдатаю нашей лавочки, которого отец и все наши покупатели, часто посещавшие нашу лавку, называли философом, что они, т. е. глаза, всегда и бывают главной картиной всего лица, а потому сходство, ежели таковое хочет кто найти, должен искать всегда только в глазах.
Матушка моя была (я утверждаю с ее слов) - нервной. Она брала кусочек сахару, пропитывала его тремя мятными каплями и, проговорив, прижимая левую руку к сердцу - "Господи, нервы!" - клала его в рот, конечно, свой, грызя минуты с три, - а больше ничем и не выдавала, никаким действием, кроме процедуры, вышеописанной с кусочком сахара, своих нервов.
Встал я в этот день в пять часов утра. Выпив вместе с матушкой крепкого лучшего сорта кофе, подвязав полотняный отца фартук, растворив двери и навесив на них вывески, я начал в прекрасном настроении славную свою торговлю.
Первыми явились маляры, плотники; запасшись хлебом и маслом, уступили они очередь кухаркам. Отец намерен был навестить по дороге на вокзал еще своего друга, торговца железным материалом.
В десятом часу явился в лавку старичок с красным околышем, за ним тотчас же появились и другие, подобные ему же, философы.
Запах коровьего масла, свежего еще теплого ржаного хлеба перемешался с запахом трубок и папирос; дым плавал густо. Рассевшись на любезно принесенных мною стульях и табуретах, философы принялись спорить. В то время в лавку покупатели не шли и я, усевшись за конторку, на которой лежала приходная книга, замечтался; закрыв глаза, я увидел панну Барбару; ее рука, от которой шел такой приятный запах вместе с небесной теплотой, касалась моего подбородка; я крепко сжал зубы; теплота этой ручки кружила мне голову, я вытянул губы и... прижался к ней.
В лавке после наступившей незаметно для меня тишины раздался вдруг громкий смех; я открыл глаза и покраснел до волос. Все философы, глядя на меня, покатывались со смеху. Я застыл... Старичок с красным околышем, подойдя ко мне и похлопав рукою по плечу, поцеловал меня, точно так же, как бабушка Барбары и Марии, в голову.
- У, малыш! - и тихо добавил: - Влюбился! Ты так потешно вытягивал губы и прижимался ими к своей руке, что... прости, мы не могли сдержаться. Но ты не сердись, милый... молодость... я понимаю... мне от умиления следовало бы заплакать!
Потрепав еще раз меня по щеке, он вернулся в свое кресло, вернув этим и остальных к прежним занятиям.
Скоро прибыл отец.
ГЛАВА IX
До субботы дни тянулись так томительно. Был еще только четверг. В театр меня больше пока не приглашали. (До субботы!) В субботу я увижу панну Барбару, т. е., в субботу я буду у пани Амброзии.
Все те дни до субботы я ходил в училище, вернее, я брал учебники и лгал, что иду туда.
Было холодно, приближалась зима, я шел на городской плац, где играют в футбол, садился под навес и думал, мечтал... Только там я не вытягивал уж губ и не целовал своей руки.
Шел дождь; на плацу было болото; стоял туман. Я вырасту большим, стану актером, куплю себе пальто, - шубу с большим мохнатым воротником, шапку, стану играть господ с рыжими бородами, мне будут хлопать, смеяться на мои слова, панна Барбара меня полюбит, и я выйду за нее замуж. Так мечтал, мечтал и в довершение всего заснул под навесом.
Старичок с красным околышем, - его звали пан Бонифаций, - был милым очень человеком. С того дня, в который он меня поцеловал в голову, потрепал по щеке и по спине похлопал, старая любовь моя к нему еще более усилилась; мне даже хотелось ему открыться, спросить как поступать, но при этой мысли, несмотря на его поощрение, я всегда говорил: "Нет".
Наступила суббота, вымылся я чисто, причесался, ботинки в тот день у меня блестели, как самовар на пасху, мое сердце прыгало, стучало, плыло, из дому я вышел на целый час раньше; выпачкав ботинки и вычистив их носовым платком заново, я направился со стучавшим сердцем к фисташковому дому.
ГЛАВА X
Пройдя палисадник с замерзшими георгинами (я был в пальто), робко я потянул за звонка ручку. Отворилась дверь и попал прямо я в объятия пани Амброзии.
- Мой милый воробышек, здравствуй, здравствуй! - Она говорила громко. Сердце упало у меня: ни Барбары, ни Марии, значит, не было. Меж поцелуев она сняла мой картуз, затем пальто; была она какая-то жаркая; целуя мои уста, она целовала их с прикусами, от всей ее: лица, рук, - шла сильная теплота. Не могу сказать, чтоб эта теплота была мне так же приятна, как та, которая кружила мою голову, вот уже четыре дня... ручки дочери Амброзии. На пани был шелковый японский халат, в волосах ее, черных с легким серебром, торчали красиво вдетые, белые, немного большие, но кажется, что гвоздики,
В комнате пахло спелыми яблоками с примесью ландринок, ярко-желтая скатерть была снята, и вместо нее стол покрыт был голубою, поверх которой лежала еще бледно-розовая кисея; на столе стояла красная с золотом чашка, в которой были кремовые розы. Мохнатая собачка при моем появлении радостно залаяла, замахала пушистым хвостиком; с ней были мы уже друзья.
- Сарочка, (так звали собачку. - Странно!) - любит только тех, кого люблю и я, - заявила пани Амброзия. Я нагнулся, погладил Сарочку. Она разнежилась, легла на спину; я пожелал сесть у стола, продолжая поглаживать собачку, но пани Амброзия перетянула меня на диван.
- Барышни уехали вместе с бабушкой за город, к знакомым, а вернутся часам к одиннадцати. - Хочешь, Адонисик, шоколаду? Возьми, ешь. - Я начал есть шоколад. - Ты... тебя звать, кажется, Иосиф? Так вот, мой прекрасный Иосиф, ты никого еще не любил?
Я покраснел, она меня поцеловала за это, тогда я решился сказать про Клару.
Пани заволновалась, прижалась или прижала, вернее, меня к себе.
- Расскажи, расскажи, как это ты любил? Ты не стесняйся. - Она сжала мне руки. - Не стесняйся, расскажи, как своей матушке... или нет, как своему другу мальчишке!
Краснея и заминаясь, я рассказал без толку свой первый поцелуй. Она расспрашивала:
- Это было так, мол? - Я подтверждал, чаще всего происходило это хотя и не так.
Меня обнимали, сажали на колени, целовали мою шею, и теперь, если бы я сказал, что это все мне было неприятно, то конечно бы я лгал.
Шуршание шелка, под которым что-то тайное, слегка, но все-таки заставляющее кружиться мою голову, духи затем эти яблочные...
Как-то я с паней Амброзией очутился в темной комнате, называлась которая спальней.
Пани показывала мне сетки для волос ее дочерей, их духи, пудру, флакончики разные, затем какие-то резиновые штучки в форме полумесяца, которые, как мне она объяснила, назывались подмышниками. Пани Амброзия говорила: "Женщины, это такие гадости. Ты, мой Нарциссик, представления о них не имеешь. Они ежемесячно с шестнадцати лет болеют" - она пояснила мне чем и как, показала интимные принадлежности облачений своих дочерей.
Я не мог уже краснеть, ибо лицо мое, а с ним, кажется, и все мое тело пылало, как угли.
Пани Амброзия посадила меня опять к себе на колени, начала меня обнимать, так что я задыхался, целовать, кусая; я еле-еле мог дышать. Что потом произошло со мною, я не могу описать, но этого, кажется, и нельзя описывать.
ГЛАВА XI
Возвращаясь в десять часов от пани Амброзии, я на площади театра повстречал господина портного, с которым познакомился, отыскивая свой картуз и кушак, поднявшись наверх в костюмерную после моего первого выступления в театре. Проходя, я снял свой картуз, господин портной остановился. "Постой, малыш!"
Я вернулся.
- Это, кажется мне, ты играл пятого дня у нас в театре - принца?
Я поклонился.
- Ты из бани?
Я подтвердил.
- Дело в том, что я никак не мог найти туфель к этому костюму, ты не помнишь, куда ты их сунул?
Я ответил, что туфли оставил вместе с костюмом, взял же их (я сам видел) его помощник.
- Ну да это не важно... ты из бани?
- Вы же меня уже спрашивали.
- Ах да! Ты чем занимаешься, малыш?
- Я учусь в школе,
- Тебя расхваливают у нас, твоя игра очень понравилась.
Я опустил глаза,
- Это хорошо, что ты скромен. Я скоро открываю театр, мне нужны актеры, есть в репертуаре много ролей для тебя. Я хотел бы тебя взять. Ты поедешь в разные города, будешь получать много денег... Хочешь ехать?
- Но ведь родители меня не отпустят...
- Какая нелепость! Что родители? Не маленький же ты мальчик!
Такое мнение о моей особе не могло не тронуть моего самолюбия. Конечно, я не маленький мальчик, мне уже четырнадцать лет, в ноябре пойдет пятнадцатый.
- Как тебя звать?
- Иосиф.
- Ну а фамилия?
- Нецинский.
- Так вот, Иосиф Нецинский, заходи ты ко мне в следующее воскресенье часов в восемь вечера... а ты не можешь... дня?
В воскресенье на вечер я приглашен был паней Амброзией, утра же в восемь мне было удобней.
- Ну вот и прекрасно, ты очень милый мальчик, очень хороший, из тебя, по-моему, прекрасная выйдет девушка! - Он дал мне свою с адресом карточку, пожал как взрослому руку, и мы расстались.
Домой я не решался прямо идти. Лицо у меня горело, это господину портному я мог солгать о бане.
Я пошел на плац, где играют в футбол; было темно, лужицы позамерзли слегка (в том году долго не появлялся снег). Было безлюдно; в такое позднее для города время мимо далее плаца никто не проходил.
Я уселся под навес. Почему-то мне стало грустно.
Я родился в бедной, вернее не в бедной, но все же простой семье. Почему отец мой был лавочником, мать торговала крестиками и молитвенниками у костела? Было бы лучше, если бы мой отец был помещиком, и мы жили бы в Англии. Тогда я не знал бы Барбары - это было бы очень плохо! Не знал бы пани Амброзии! Может, это было бы лучше? Я бы сидел теперь дома и ел бы телячьи котлеты, пил бы чай.
Щеки не переставали пылать, что же делать? Я притронулся к ним холодными руками, и мне представилась ручка Барбары. От нее, от этой ручки шла такая же теплота, как и от моих щек.
Закрыв глаза, я увидел ее личико; полненькое, глаза большие, почти черные, вокруг них сильная синева, носик слегка, очень слегка, кверху, губы углами тоже кверху, полные и пунцовые.
При виде этого милого лица внутри меня что-то щекотало. О! Если бы только легко-легко, чуть-чуть притронуться к ее губам, я бы умер! И мне захотелось вдруг умереть. Я умер... Барбара бы плакала, жалела бы, что меня не поцеловала. Все плакали бы.
Размышляя, как хорошо быть мертвым, я встал со скамейки и, выйдя из-под навеса, направился к улице Жандармов, в которой была наша лавка.
ГЛАВА XII
Любил я очень воскресные заседания философов нашей лавки. Быть может, потому, что на них присутствовала моя матушка или потому, что старичок Бонифаций с красным околышем, одевшись по-праздничному, сменял красный околыш на фетровую шляпу. На праздничных заседаниях, да и то не на всех, присутствовал еще, кроме всех постоянных будничных посетителей, отставной военный шляхтич Андрей Кулко. Бравый, бывший капитаном, пан Кулко, был гордостью отца, равно как и нашей лавки. Посещениями его, как и его мудрыми речами, мы дорожили все.
Высокий, гладко выбритый, с небольшими седыми бачками. Лицо его было почти черным, худощавым, глаза пивные. На голове волосы были черными с легкой проседью; только у висков она была сильной. Являлся он обыкновенно с газетами.
Независимо от того, приходил он, или нет, кресло мягкое, зеленым обитое бархатом, в котором любил он сидеть, ставилось у конторки ежевоскресно.
Улыбнувшись креслу, кряхтя, садился он в него, конечно, предварительно со всеми перездоровавшись.
- Торговля? - спрашивал он басом, что означало "как она идет?". - "Люблю я краткость".
Отец благодарил. Докладывал, пересказывал события недели или недель, смотря по тому, как давно был у нас капитан. И тотчас же, не знаю, как это случалось, разговор с картофеля переходил на войну. Говорили ли о масле, керосине, надо было всегда ожидать, что пан Кулко может пробасить громко: "Война - это великая вещь!" Ну и шли военные рассказы, критика современных войск. Я заслушивался и целыми неделями затем бывало бредил войною, походами.
- Война - это святая вещь! - Было еще другое определение капитаном. Бывало: - Садись, малыш, на колени ко мне; я тебя люблю, вижу будущего воина в тебе!..
Хотя мне и было четырнадцать лет, я всем все-таки казался малышом, Я был худым, свой рост я сам считал выше среднего, на что, непонятно для меня, все смеялись.
Я усаживался на колени к пану капитану, он сворачивал себе толстенную папиросу, закуривал и рассказывал свои военные подвиги.
- Война - это святая вещь! - И дальше шел рассказ (капитан был австрийским военным), как однажды в Франко-Прусскую войну, его рота во главе с ним осаждала и расстреливала с добрых полчаса дом, в котором находились свои же пруссаки; происходило это, что удивительнее всего, днем; они сидели в каких-то редутах и преспокойно перестреливали своих же солдат.
Заканчивал этот рассказ пан Кулко своим тем же определением: "Война - это святая вещь!"
В это воскресенье капитан заявил мне, что он, с моего, а так же и родителей моих согласия, может определить меня в военно-музыкальную школу.
Я поблагодарил.
Отец же и мать мои попросили у капитана времени для решения такого серьезного вопроса.
- Скоро, быть может, я разбогатею; сестра моя двоюродная, которая живет во Франции, имеющая порядочный капитал, больна.
Родня капитана рассеяна была, кажется, по всему свету.
- Я не желаю ее смерти, Боже меня сохрани. Но, кажется, было бы уж время.
- Что вы думаете о войне, грозящей нам от Японии? - ласково капитана спрашивал старик Бонифаций.
- Ваша армия - слаба, это не Австрия, что ж? Япония, мое мнение, не сильна тоже. Победа несомненно на вашей. - И капитан взялся за фуражку.
- Подумайте, пан Антоний, о сыне!
ГЛАВА XIII
Явившись в следующее воскресенье на улицу Павла, где проживал г. портной (кстати, его фамилия Шляпочник; он был евреем), и не застав его дома, я направился к плацу, где играли в футбол.
Там в тот день было много народу; были знакомые товарищи по школе.
На середине плаца лютеранская реальная играла в футбол с нашей школою, городскою. На низком заборике сидели зрители; тут была все молодежь, ученики, но ни девочек, ни взрослых.
Я уселся ближе к навесу, тоже на заборик.
За навесом был огромный сад, огражденный высокою, железною решеткою. Сад принадлежал белому дворцу, а дворец - князю Гедроицу.
Я был задумчив, меланхоличен.
Меня не занимала игра, беготня и крики; я оставался ко всему в этот день равнодушен; кленовые листья, желтые, летали по замерзлой земле плаца вслед за игральщиками.
Мне хотелось снега, хотелось, чтоб скорей меня увез Шляпочник (г. портной) куда-нибудь в другие города со своим театром.
Утром всегда бывало у меня дурное настроение:
просыпаясь, я вспоминал панну Барбару... Глаза, похожие на глаза мучеников на русских иконах, непонятные, как-то смешно неподходящие к бледно-розовым, полным щекам; носик кверху, губы красные, полные, пунцовые - я так волновался. Затем... вспомнил про пани Амброзию, - и не знаю почему, становилось грустно.
Первая партия окончилась, выиграли лютеранцы, начали игру другие.
Вдруг я вижу: с толпою красный, краснее своего околыша, подходит к месту, где сижу я, старик Бонифаций; фуражка у него на затылке, галстук черный под правым ухом, одет в праздничный костюм, черный пиджак, пальто только старое, которое он влек по земле, старая еще фуражка.
- Плуты - лютеранцы! Я хочу свечку, а Шуле мне подножку!..
Мальчишки все возмущены за дядю Бонифация; у нас после проигрыша, дело обычное - ссоры, Бонифаций увидел меня.
- Доброе утро, Юзек!
- Каким футболистом вы, дядя, стали; я этого не знал. Какой вы молодой!
- Все молоды, мое сердце, все мы, стариков нет, взрослые только важничают!
Вся толпа двинулась на середину, где происходил спор. Наши вели крупный переговор с лютеранцами. Бонифаций стал прощаться, я предложил его проводить.
- Наверное будет драка, вот в это мне, в мои годы, не следует вступать!
- Ну а вам не жаль разве их, дядя?
- Почему жаль? Ах жаль, что я сам не могу вступить в эти драки?.. Да, конечно, жаль. Ах молодость! С каким я удовольствием вспоминал синяки, шишки - это поэзия!
Дядя Бонифаций, если что называл поэзией, то это лишь то, что для него было необыкновенно приятным.
- В мои времена так вот были драки! Вроде кулачных русских боев. А теперь что? Ведь вы, малыши теперешние, кушаками деретесь, - это слабо! Впрочем, мы, старики, расхваливаем всегда лишь свое время, оно только в наших глазах прекрасно, за это стоило бы за уши нас. Мы все чувствительны к прошлому. Разве ты, Юзек, не вспоминаешь с любовью то время, когда малышом, совсем малышом, ты сидел на тротуаре и смотрел в раншток, где на мутной воде быстро бежавшей, играло солнце; твои ноги босые пекли накаленные камни мостовой. Я ему крикнул:
- Дядя, милый! - Откуда все это он знал?
- Да, солнце... странно! Теперь холодно, я могу простудиться!
Он стал надевать пальто, которое до того времени продолжал все тянуть по грязи.
- Я сам, сердце мое, такой же малыш, как и ты. - Он нагнулся и захотел поцеловать меня в лоб, но я подставил губы. И поцелуй, получил который я с уколами бритой щетинки усов, был воистину приятнее губ мягких и жарких пани Амброзии.
Мы проходили нашу улицу Жандармов, дядя Бонифаций дернул меня за рукав.
- Ну прощай, малыш, потолкуем в другое время.
Я остановился.
Перебежав молодецки быстро через улицу на другой тротуар, дядя Бонифаций здоровался с какой-то полной девушкой.
ГЛАВА XIV
Когда я входил в нашу комнату, матушка уж грызла сахар, слышался запах мяты; войди на секунду раньше, я бы услышал: "Ах нервы!"
Отец в очках читал вслух газету:
- ...Регинска... - первое, что я услышал, ведь это была фамилия пани Амброзии!
- Тонкая психология... - читал отец дальше, - и минутами мы видели перед собою Режан... большая актриса... большая...
- Зюня, про тебя здесь в газете тоже напечатано! - увидев меня, сказала мать.
- Вот слушай! - мотнул головою отец. - Мальчик, игравший дофина, премило держался на сцене... дети, это - воск, ему же придавать всевозможные формы легко. Поэтому советуем не упускать случая и этот милый воск дирекция передаст пусть нашей гордости, нашей Режан... дальше не о тебе.
Окончив читать и сложив бережно газету, сказал ласково отец и, так как я находился поблизости от него, то не преминул он и погладить меня по голове.
Матушка со стола убрала газету и, спрятав ее в комод, поцеловала тоже меня, затем спросила, как все это мне нравится.
Отец вышел в лавку.
- Дитя мое, учение твое подвигается, к прискорбию, очень плохо, поэтому мы, тебя с отцом, а также и по совету знакомых, решили тебя определить в какое-нибудь более пригодное, а также более полезное тебе учреждение.
В военно-музыкальную школу тебя, по протесту всех, решили не отдавать, ибо (решили мы все) ты можешь там лишь испортиться, а также и потерять веру римско-католическую.
Теперь - театр. Говорила я о тебе с достоуважаемой пани Регинской.
Театр, по выражению о. Курчевского, есть все-таки вещь безнравственная. Это, конечно, не казармы, переполненные кацапами, театр - польский! И вот достоуважаемая пани Регинская (да сниспошлет ей Господь Иисус долгое счастье!) сердобольно согласилась оберегать тебя от всяких гадостей и дурных примеров. Она будет тебе второй матерью, как и доброй, прекрасной учительницей. Надень вечером свой новый костюм, вымой руки, причешись и отправишься к этой ангельски доброй барыне. Вот тебе ее адрес.
Добрая, милая матушка, как я любил тебя, как любил я твои мудрые советы! Но речи твои, подобные проповедям отца пробоща Курчевского, были скучны, скучны, скучны...
В этот день я был очень счастлив; дядя Бонифаций, такой милый дядя Бонифаций, меня понимал: он каким-то чудом знал мои мысли, мои мечтания... Вскоре матушка тоже покинула комнату, она ушла на мессу.
Я подсел к окну, В нашей большой светлой комнате, с белее снега кисеями, окна были большими, как в костелах. Лавка наша была в подвале, ибо улица, на которую выходили ее окна, была значительно выше дворового сада, выходили в который окна нашей комнаты. Сидя на подоконнике, я видел из окна наш дворовый сад, засыпанный весь желтыми листьями, упиравшийся в старую зеленоватую от времени, высокую стену городской ратуши. В стене не было окон, а были лишь гнезда ласточек, которых осенью сменяли воробьи.
В саду стояли теперь с ободранными ветвями деревья черемухи; в углу, образуемом стеной городской ратуши и высоким плотным забором, была темная от дождей скамейка - вдоль забора стояли тополя; на макушке меж их голых ветвей свили гнездо галки. Открыв форточку, я услышал сильное карканье стаи.
Все галки кружились, беспорядочно сталкиваясь одна с другой над своими гнездами, и сильно, сильно каркали; ударялись они о сучья, которые легко ломались и падали в сад, или же за забор на улицу.
Я долго сидел на подоконнике.
Наконец, стая, как по уговору, или, вернее, по приказанию офицера, стройно, прощально прокружившись пять или шесть раз над гнездами, поплыла вдаль от нашего дома.
ГЛАВА XV
Войдя в переднюю, в которую впустила меня бабушка, я услышал в гостиной шум: много девичьих голосов, почти истерический смех, беготня. Я учтиво приложился к бабушкиной ручке, на что она ответила поцелуем в голову.
- У нас гости...
Я понимал, взяв меня сзади за локти, бабушка, с грацией отворив дверь, объявила присутствующим:
- Вот вам и кавалер!
Шум и смех затихли, все повернулись ко мне; я покраснел.
На диване, на стульях, за столом, - всюду барышни... Одеты в гимназические платьица, белые передники, - кто лучше, кто хуже, не разобрать.
Пани Амброзия, одетая в темно-бордовое с переливами платье, кружева на руках и груди, с воротником, красиво обшитым золотом, протянула мне душистую руку. Я поцеловал.
- Знакомьтесь, Иосиф. Это подруги по классам Барбары и Марии.
Я отшаркивал ножкой, шептал от волнения свою фамилию, не разбирал фамилий барышень; окончив это все и будучи подведенным доброй бабушкой к дивану, я уселся на нем меж трех барышень.
Барышни сейчас же вперебивку заговорили со мной. Одна спрашивала: интересуюсь ли я гипнотизмом; вторая сейчас же хотела узнать, нравятся ли мне офицеры. Я, волнуясь, молчал, и, так как за меня пожелала отвечать первым двум третья барышня, я понемногу начал успокаиваться. Подлинность ответов, которые милостиво давала третья барышня остальным двум за меня, я скромно подтверждал поклоном головы.
Волнение улеглось, и я легко уж мог даже сосчитать находившихся здесь барышень. Было их одиннадцать; с лицами, как и с именами, правда, мне еще трудно было справиться.
В комнате стоял какой-то чад, наверное, от свечей, которые зажжены были у зеркала, большего, чем в человеческий рост. Стол, который обычно покрывался желтой скатертью, был покрыт теперь ярко-зеленой. На нем была высокая, очень яркая лампа, затем светло-серая с зеленым ваза, полная каких-то смешных цветов; в беспорядке близ вазы и лампы лежали коробки с конфетами.
С правой стороны от входа у окна, заставленного зеленью, стоял большой накрытый стол, вроде как на пасху, уставленный бутылками, чашечками, стаканами.
Панна Мария (теперь лишь я ее увидел) сидела на козетке у дверей в спальную и меланхолично бродила пальцами по цитре; выходили какие-то странные звуки. Она была бледной, казалось, даже заплаканной.
Я начал рассматривать всех, ища Барбару. Ко мне подошла пани Амброзия.
- Пойдемте, посекретничаем, прекрасный Иосиф.
И, извинившись перед сменившими первых, вторыми уже барышнями, пани Амброзия повела меня в спальную.
Поцеловав и прижав меня к себе сильно, она сказала, сунув что-то в мою руку:
- Спрячь это в карман, сегодня панна Барбара именинница, ты ее поздравь и передай ей это, как будто от себя. Ну пойдем, а то неловко.
Поцеловав меня еще раз и сжав до боли сильно мои пальцы, она вывела меня из темноты.
- Барбара, пан Иосиф имеет тебе что-то передать, но он стесняется, - смеясь очень искусно, сказала пани Амброзия.
Я сунул руку в карман, панна Барбара подошла ко мне. Она была прелестной, я видел только ее лицо; платья не помню, как и ног.
- Я к вашим услугам!
- Поздравляю вас, - прошептал я совсем тихо и на окончание "с чем", у меня не хватило дыхания. Спешно вынув предмет, переданный мне Амброзией, я поклонился, и, кажется, придавив чье-то платье, поспешил к дивану.
Вскоре началось чаепитие; за ним говорили о том, что я вполне подхожу к воспитанию панной Амброзией. Быть может, в будущем стану я великим артистом.
Я краснел, краснел...
Разговоры перешли на какие-то мудрые темы. Говорили о театре, о каких-то драматургах, затем о гусарах, потом о спиритизме, рассказывать начали страшные рассказы.
Из маленьких чашечек с синим пили кофе, из крохотных рюмок ликер.
На какие-то рассказы, рассказываемые полной, красной, с пепельными волосами барышней, пани Амброзия грозила пальцем.
- Панна Ванда, это уже слишком смелые вольности: здесь ребенок!
Все смеялись, расспрашивали меня, в самом ли деле я ребенок?
Я опускал глаза.
Было уж полчаса двенадцатого. Часы, находившиеся в спальной, пробили это, за ними тотчас же затилинкали куранты, находящиеся в гостиной. Ни на первые, ни на вторые никто не обращал внимания.
Заговорили о гипнотизме.
Прекрасными медиумами оказались я и панна Мария.
Глаза, по мнению всех, нужные для гипнотизера, нашлись у самой пани Амброзии.
С панной Марией поместили нас в темную комнату (т. е. в спальную) для того, чтобы все зрители могли сговориться с пани Амброзией, чего от нас потребовать.
В спальной было темно. Дверь в гостиную завешена была голубой прозрачной портьерой.
Панна Мария держала меня, как ребенка, за руку.
Я видел ее лицо; заплаканные глаза почему-то заблестели на полсекунды красным светом, как горящие угли, как бывает это у кошек (у тех всегда, кажется, только зеленый свет).
Это было лишь на полсекунды, затем они стали опять обыкновенными, темными.
Публика совещалась что-то очень долго. Я старался тише дышать. Вдруг я чувствую: сначала легкое пожатие, потом все сильнее.
Мою руку, наконец, сильно сжала панна Мария.
- Ты никому не скажешь?
С трудом я выговорил: "Нет".
Дыша тяжело, она крепко своими устами прижалась к моим.
С моим сердцем что-то забавное случилось. В моих глазах заплавал коричневый свет. Затем меня за руку вывели в гостиную, чему-то смеялись, вертели меня.
В моих глазах все продолжал плавать коричневый мутный свет. В гостиной, мне казалось, было много, много дыму, как на пожаре, но он мне только не ел глаза, а кружил голову, кружил, кружил...
Я помню себя лишь дома в кровати, в которой я спал с отцом.
Я не мог уснуть, долго ворочался, в глазах все плавал тот же коричневый свет. В комнате стоял дым. В моей голове стучали колеса громадные громадного паровоза.
Отец оставил в постели меня одного, пойдя в каморку, что находилась у самых дверей лавки, советоваться, очевидно, о делах с матушкой (она спала там), как делал он это ежедневно.
Я не помню, как и когда уснул.
ГЛАВА XVI
На дворе играл шарманщик, в комнате никого не было.
День был темный.
Лишь только я открыл глаза, сейчас же вспомнил про Марию. Голова моя опять начала кружиться, в комнате появился опять дым.
Дверь была открыта, и из лавки я слышал голос Бонифация.
- Это называется стаканом, прекрасно... Но представьте себе, какая это мука, знать эту вещь, знать, для чего она, что с нею надо делать, и не уметь ее назвать, не объяснить другому, что сам ты прекрасно понимаешь! Был бы у меня, для примера, талант к рисованию, а рук нет, ну что на это скажешь?..
Я стал одеваться. Как же это я так разоспался. Бонифаций в лавке, - значит, уж десять часов? Странно и то, что меня не будили.
Оделся: в комнате было холодно. Помолился. Молился я за здравие панны Марии еще. На столе стоял стакан с кофе, покрытый салфеткой, рядом лежал большой кусок хлеба, намазанный толсто маслом.
Выпив кофе, я спустился в лавку поздороваться с отцом.
- Здравствуй, пьяница! - ласково улыбаясь, встретил меня он. - Что ж, твоя учительница прекрасную взяла методу обучения!
Значит, они приняли меня за пьяного, подумал я, это - хорошо. Для виду я перед отцом стал оправдываться.
- Ну, я шучу, Зюня, у пани Регинской был вечер вчера? Я читал в газетах, что там было много барышень.
"Читал в газетах" - это была обыкновенная острота отца.
- Один раз здесь без вас в лавке мы были свидетелями забавной сцены...
Дядя Бонифаций (я видел, как он философа толкнул локтем) стал вместо того продолжать сам:
- Ну, как не стыдно над стариком смеяться? Я, пан Антоний, под их мудрые речи замечтался тут как-то раз в лавке; ну вспомнил молодость и захотел сымитировать первый поцелуй, подаренный мне одной красавицей! Закрыв глаза, я вытянул губы, и, и вышло недоразумение, - я поцеловал собственную руку!
Отец захохотал и долго, долго смеялся.
Философ, пожелавший меня видеть, тоже захихикал, но приниженно и жалко.
С того дня я сильно полюбил Бонифация, он стал мне дороже отца и матери.
Придя к обеду, матушка заявила, что желает меня представить отцу пробощу Курчевскому. За обедом говорила мать с отцом все обо мне.
- Мы с тобой, Антоний, мало приглядываем за сыном.
- Разве?.. - Отец казался изумленным и несколько испуганным. - Что случилось?..
У меня с отцом были всегда маленькие тайны от матушки; например, сегодня же приняв меня за пьяного, он ничего об этом не говорил ей.
- Случиться ничего, Антоний, пока еще не случилось, но мы мало обращаем, повторяю, внимания, хотя бы даже на духовное образование Иосифа. Не так давно будучи на исповеди, он, как мне жаловался отец пробощ, почти совсем не знал катехизиса!
- И ты это скрываешь от нас? - поглядев на меня, сказал отец.
Я молчал.
- Когда кончишь обедать, переоденься в свой праздничный костюм, вымойся, причешись, - я с тобою пойду сегодня к пробощу.
Плебания отца пробоща Курчевского находилась во флигеле костела св. Якова и Филиппа.
Впустила нас экономка средних лет; поздоровавшись с матушкой поцелуем, ибо они были подругами, она поплыла доложить пробощу.
Мне почему-то было не по себе.
Вышел скоро ксендз пробощ. Он был здоровенным мужчиною; загорелый, с красным лицом, а в особенности носом; говорил сильным басом; на ксендза он столько же походил, сколько я на городового.
- Пусть благословен будет Иисус Христос, - сказала матушка, целуя руку ксендза.
- Во веки веков аминь! Ты что, карапуз?.. Мать на тебя жалуется, катехизиса не знаешь...
Я стоял ни жив ни мертв; голос его звучал сильно и хрипло, но была в нем и какая-то ласковость.
- Отче духовный, он пришел к вам просить, чтобы отец духовный занялся с ним катехизисом.
Мать тоже заметно робела перед своим божеством.
- Хорошо, Анна, хорошо, стану учить. Только я бить буду: я люблю бить! - Он свою тяжелую руку положил на мою голову. - Ты позволишь, Анна, мне его бить?..
- Отец духовный не убьет же до смерти...
ГЛАВА XVII
Выпал снег; на ветках деревьев в нашем дворовом саду он так красиво повис, точно вата, понасыпало его еще не так много, и были видны листья.
В тот день произошли довольно важные события.
Я ходил по средам на катехизис к о. пробощу в костел и, так как был влюблен, то мне сильно доставалось за незнание уроков.
Ксендз мне уже надоел, его однообразные остроты и пинки заставили разочароваться, меня в религии.
Это было седьмого сентября. Была суббота, и я отправился к пани Амброзии.
Войдя в палисадник, я остановился, поглядел на пустую собачью будку, засыпанную снегом; собаку сторож убрал, наверное, в комнату.
Хлопья сыпались, сыпались... Было так тихо.
Я отворил со скрипом дверь в сени и столкнулся с Марией.
Она была в шубке, с мохнатой белой муфтой и с книгою в руках.
- Я к подруге! - и протянула мне руку; я ее пожал.
- Вы можете ее поцеловать, - сказала Мария тихо; я поцеловал.
- Милый, ты любишь?..
Я не ответил; в горле у меня было сухо, она поцеловала легко и быстро меня в губы, прошла через палисадник, и уже оттуда сказала:
- До свидания.
Я сам открыл дверь в прихожую и из гостиной услышал: "скорее, скорее, Барбара!.." - это был голос Амброзии.
- Это вы, Иосиф? Здравствуйте, не раздевайтесь; если хотите, поедем вместе в театр.
Я поздоровался с Барбарой, она, распевая что-то, посыпала свои волосы золотой пудрой, перед зеркалом.
- Садитесь, - предложила мне Амброзия.
Я сел, как был, в пальто.
- Я вас видела позавчера на проспекте с каким-то старичком, - перестав петь и надевая шубку с моей помощью, сказала Барбара.
- Это знакомый моего отца, дядя Бонифаций.
Мы поехали; у пани Амброзии была прехорошенькая бричка.
Горели свечи, но все-таки было темновато. Театр был маленьким, и было душно. Запах роз, пачули и апельсинов. Было много народу; в проходе меж кресел стоял стол, в подсвечниках горели свечи; за столом сидели три человека, серьезных и сердитых. Пани Амброзия подошла к ним.
Что она спрашивала, поздоровавшись с ними, не было слышно. Только сидевший на середине лысый господин сказал так громко, что я покраснел:
- Пятый бенуар!
Мы уселись в ложе. Поднялся занавес. Представляли, как объяснила мне Амброзия, "Пан Понятовский в Петербурге".
Изображена на сцене была дворцовая палата в Кракове.
В кресле, похожем на трон, сидел какой-то важный старик, богато одетый, расшитый золотом; перед ним сидел военный с красными лампасами, весь в орденах, держа в руках шапку, какие носят уланы.
Военный много говорил, старик молчал и слушал, затем появилась какая-то барышня, потом уланы.
Занавес опустился, и никто не хлопал. После окончания пьесы пани Амброзия, прощаясь со мною, сообщила, что она уезжает на три месяца "в поездку".
Едет она завтра утром.
Я распрощался; Барбара и Мария, как оказывается, тоже уезжали из города; только они ехали в Петербург, к брату.
Выйдя из театра, я пошел в сторону от своего дома.
Долго я бродил по улицам, посидел и под навесом, что был на футбольном плацу, поплакал немного (или вернее будет - много).
Как же это? Без пани Амброзии, без Марии, которую я только что как следует начал любить - Барбара мне уже была столь же дорога, сколько и ее мать.
А все-таки я очень привык к ним ко всем.
Это было ужасно, ужасно!
Когда я подходил к дому, лавка наша, освещенная газом, казалась мне противной, тоскливой.
В лавке был отец, дядя Бонифаций и еще какой-то покупатель.
Когда последний удалился, отец, обратившись ко мне, сказал:
- Где ты все бродишь? Что же это такое?.. Мать твоя занята, я занят тоже, уходишь - не говоришь куда, приходишь поздно...
- Да что же ему, пан Антоний, делать? - вступился за меня Бонифаций.
- А вы не защищайте! Катехизис надо учить, готовить уроки. Что же бездельничать? Мы люди бедные, лентяев содержать не можем, как богатые. Слава Богу, пятнадцатый год пойдет ему скоро, другие в его годы... вы посмотрите...
- Да что там другие, пан Антоний! Не берите вы никогда в пример других. Ваш сын талантлив, умен. О ком из его однолетников писали в газетах?.. Погодите: подрастет, станет актером, да каким еще! Вас на старости лет станет содержать.
Я даже улыбнулся от удовольствия.
- Ax, где там! - сказал отец. - Содержать! Нынче ведь дети какие пошли? Не содрал с тебя последнего платья, ну и благодари Господа!..
- Не говорите, пан Антоний, "нынче" так, как будто в этом "нынче" все самое плохое. Почему это, по-вашему, хорошее могло быть только когда-то? Мы живем в прекрасное время... мы идем вперед, а если случайно и может быть что-нибудь плохое, то столько же теперь, как и прежде.
- Но где там, пан Бонифаций! Я все-таки за старое.
- Да я понимаю это, я сам люблю прошлое. Но я протестую против несправедливых мнений о настоящем. Но мы с вами прервали разговор о республике; эта тема меня волнует... не станем ли продолжать?..
Я распрощался с Бонифацием. Во время прощания он незаметно мне в руку сунул какую-то бумажку.
Пройдя из лавки в комнату, я прочел эту записку. Мне писал г. портной, Шляпочник... он меня ждал завтра в двенадцать.
До тех пор, пока не вернулась матушка, я сидел у окна, не зажигая лампы, перечитывая при спичке записку, вздыхая и плача.
ГЛАВА XVIII
Как оказалось после разговора с г. портным, дядя Бонифаций тоже стоял близко к делу артистической поездки, затеваемой г. Шляпочником, но в ту минуту, получив записку, от г. портного через Бонифация, я недоумевал.
Оказалось, его пригласили на должность суфлера, а также и администратора.
Репетиции должны были начаться через месяц.
Я продолжал ходить по-прежнему каждую среду на катехизис, а также и в училище. Учиться я начал довольно прилежно. Уходя с уроков, я бродил по окраинам города. По заявлению матери, я похудел.
Все удивлялись, что со мною, - я жалостливо улыбался и молчал.
Снегу понасыпало много, начали уже разъезжать на санках.
Явился один раз Бонифаций к нам в лавку, одетый по-праздничному, с нафабренными усами, причесанный гладко, с ровным пробором на боку.
От всего него веяло такой утешительностью.
- Свататься едете? - спросил отец.
- Нет, я еду на "Цыганского барона", и взять хочу с собою вашего сына.
Я переоделся.
- Сердце мое, у нас места в креслах. Мы должны благодарить г. Шляпочника за его любезность.
Что я видел на сцене, мне понравилось безумно, понравилась и музыка, Я был весел, как и Бонифаций. Только когда мы вышли по окончании оперетки из театра, мне стало вновь грустно.
Мое сердце опять что-то сжало, как и все те дни после отъезда Регинских.
Дядя Бонифаций шел весело по снегу, напевая "Я цыганский барон", и мотив, который он пел, мне, несмотря на его веселость, казался заунывным.
- Вот, сердце мое, поедем в поездку, будем сами играть, одно восхищение!
Я стал жаловаться, что родители не отпустят меня.
- Глупости! Отпустят, малыш, отпустят, я поговорю, уговорю их.
Мы замолчали и шли медленно, я колебался, рассказать ли мне о Марии? Наконец я решился.
Во время моего рассказа мы приближались к дому; тогда добрый дядя Бонифаций, взяв меня под руку, повел в сторону от него.
- Ах, эти вертушки! - сказал дядя, когда я окончил свой рассказ. - Милый мой малыш, и тебя они уже заставляют страдать? Они, кажется, созданы на наше горе... Ведь вот плутовки, махнут хвостом, и дела им мало. Влюбляют в себя лишь для испытания своей силы, а силу пробуют ведь всегда на слабых! Если бы ты понял меня, малыш, я рассказал бы тебе много интересного о этих существах, но ограничусь пока небольшим!
Мы уселись на скамейку, сметя с нее снег (это было в каком-то саду).
- Дело вот в чем: существа эти, называемые женщинами, созданы, как гласит священное писание, в подмогу нам и для нашей радости. Сотворена же первая из них была, как ты знаешь, наверное, по катехизису, из ребра Адамова. Следовательно, эти существа кусок нас! Так?
Я не мог не согласиться.
- С человеком целым, мой милый малыш, мы не имеем права поступать, как заблагорассудится нам, тоже целым; но кусок, который создан из нас для нас же, подлежит всецело нашему усмотрению. Это и было так, к сожалению, только не в наше время!
Я запротестовал.
- Положим, дядя, я в панне Марии, а так же и в остальных всех женщинах, начиная с моей матушки, не вижу вовсе "куска"; они росту такого же, как и ваш, разговаривают они точно так же, как вы, как и мой отец...
- Но, сердце мое, дай мне все тебе объяснить по порядку. Существа эти, называемые женщинами, со времени своего сотворения, описанного в священном писании, усовершенствовались с течением времени. С годами они перенимали нашу мудрость, и служить стали не они нам, а мы им. Мужчины поизобретали им одежды, которые превратили их самих в рабыниных рабов. Все перепуталось так, что, наверное, и Сам Всевышний развел руками. Женщины, сердце мое, это граммофонные пластинки: мы - голос, они воспринимают все от нас, подчас и довольно ловко! Но характер "кусочка" все-таки, несмотря на их и дьявола хитрости (ибо известно достоверно, что женщине помогает злой), не сможет никогда вытравиться, ибо Бог сильнее дьявола. А потому еще в нашей власти женщин брать, ежели мы не слабее их; с годами сила появится и у тебя, малыш. Женщины, слишком "кусок", они не могут нам противиться, сопротивление не дано им Всевышним, поэтому они слабы. Но и здесь дьявол помогает им хитростью; он бархатит их кожу, надевает платье, вызывающее в нас вожделение, - и слабые из нас становятся их рабами. Так-то, сердце мое, не будь бабою, храбрись, набирайся силы, а главное, старайся их брать и покрепче, но, Боже сохрани, не поддавайся им! Они у..!
Бонифаций сделал большие глаза, а затем, рассмеявшись, поцеловал меня в лоб.
- Ну пойдем!
Мы поднялись.
- Когда-нибудь в другое время мы поговорим с тобою на эту тему более обстоятельно; тема эта, признаться, меня крайне волнует.
Мне стало несколько веселее; меня утешало то, что я над панной Марией по теории дяди Бонифация имел какую-то власть.
- Ну прощай, малыш! - он поцеловал меня в губы, я ответил ему тем же.
- А от любви мы вылечимся, сердце мое, вылечимся! - и он стал удаляться, напевая: - "...Я цыганский барон..."
ГЛАВА XIX
Репетиции на квартире г. Шляпочника давно уже начались.
В трех пьесах я играл женские роли, и в одной молодого человека.
Было весело; я под опытным руководством г. Шайдецкого, который был в труппе режиссером, легко привыкал к сцене.
Имея врожденную наблюдательность, я ловко применил ее к женским ролям. Походку, жесты и легкость телесных движений имитировал я, по выражению всех, неподражаемо.
На репетиции, лишь только я начинал играть, все актрисы и актеры покатывались со смеху. Участвовал я больше в фарсовых пьесах.
Труппа состояла из шестнадцати человек: восьми мужчин и пятерых женщин, считая со мною, кроме того сам г. Шляпочник - директор, дядя Бонифаций - суфлер-администратор и г. Лейбович - передовой. Все были людьми веселыми и приятными. Одна из актрис, очень миленькая, Саломея Вотинская (я подозревал здесь наговор дяди Бонифация) стала очень сильно со мною любезничать.
Дядя Бонифаций уговорил моих родителей отпустить меня с труппой. Отец сразу согласился, но матушка моя явно не совсем была довольна, тем не менее согласилась и она.
Среди актеров дядя Бонифаций расцвел еще сильнее; он очень моложаво исполнял возложенные на него обязанности. Первые дни несколько смущала меня господствующая здесь вольность: актеры обнимались с актрисами, целовались... Дядя Бонифаций не отставал от всех прочих, он завел тоже шашни с одной из актрис, полной, румяной Фелицией Чернецкой.
- Поедем, поедем, малыш! Будем играть, станем царапать сердца провинциальным барышням и дамам. Не нравится ли тебе это? Ах, я и забыл, ты ведь влюбленный!
Я наморщил брови и закусил губы.
- Ну прости, сердце мое, прости, дорогой малыш... прости старого болвана, не сердись, я это по-дружески, просто. Я не хочу теребить твое бедное, молодое, чистое сердечко. Первая любовь свята, к кому бы она обращена ни была. Не печалься, малыш, - все ровесники твои, милый малыш, влюбляются неудачно, даже во много раз неудачнее тебя. А теперь, сердце мое, тебе и подавно не следует влюбляться. Теперь в тебя должны влюбляться!
Дядя Бонифаций весело засмеялся, ущипнув слегка меня за щеку.
Философы нашей лавки посмеивались над дядей Бонифацием.
- Дорогие мои! - отвечал он им. - Не все ли равно, играть в жизни или на сцене? Разве не все мы - актеры, играющие роли, возложенные на нас Всевышним? Мы сильно ошибаемся, делая то или это, уверенно думая, что все совершаемое нами, это наши желания. Не верующий в Бога убедиться в том может из статистических данных, - дядя Бонифаций долгое время занимался статистикой. - Каждый наш шаг определенно высчитан: вот например, мимо этой лавки в понедельник проходят пять тысяч человек, в четверг - семь, и никак, ежели вычислено столько-то тысяч, не может оказаться ни лишних, ни недостающих. Это так, с этим нельзя спорить, это доказано. Мы актеры, наши декорации более реальны, но и в них вглядеться внимательнее, - уж и блекнут краски. Предметы, с которыми мы свыкаемся, уже не производят впечатления той первоначальной яркости. Поговорим в другое время на эту тему; тема эта меня крайне волнует. Надо собираться; в пятницу мы в два часа дня должны выехать, осталось три дня. Пан Антоний, обмундируйте сына.
Я волновался.
ГЛАВА XX
Настал четверг. Официально я уезжал на два месяца. Ну а там как Господь Иисус позволит.
Эти дни перед отъездом я находился в таком же беспокойствии, как и в дни по получению первого поцелуя от панны Марии.
Тут - как бы чего не забыть! Как там - как бы не разлюбила!
Первый раз я выезжал самостоятельно без родительского надзора, первый раз я прощался с городом, как мне казалось тогда, надолго. И первый раз я поеду в поезде.
Матушка озабоченно хлопотала над укладкой среднего по величине чемодана, того, конечно, который я брал с собой.
Отец втайне от матушки сунул мне в руку пять рублей, матушка от отца - три. Официально же они вместе дали мне еще десять.
Дядя Бонифаций по городу расхаживал в новом пальто, в новой черной с большими полями "артистической" шляпе.
"Мы едем, едем!.. Я цыганский барон, мне подвластно здесь все!.."
В утро пятницы я был с матушкой в костеле; там она, освятив крестик, надела торжественно его на меня, благословляя в дорогу.
По окончании утренней службы мы отправились прощаться с ксендзом пробощем. Он только что пришел из ризницы, в его комнате густо плавал запах ладана. Я поцеловал после матушки его чисто вымытую и продушенную руку. Он весь казался необыкновенно чистым; я подозревал даже, что лицо его, красное, было слегка припудрено.
- Не удалось мне тебя, карапуз, побить, как следует, Ну а когда вернешься, возгордишься!.. Ну, ну, Господь Иисус да благословит тебя!
Мы вышли. Матушка плачущая, от отблеска снега казалась бледной-бледной...
Возвратясь домой, я нашел записку от... от пани Амброзии. Она и дочери ее вернулись.
Я прямо-таки бегом помчался к ним. Было уж двенадцать часов.
Фисташковой окраски домик, палисадник - все засыпано снегом...
Войдя в переднюю, я столкнулся с бабушкой. От волнения я ее даже поцеловал. Пани Амброзия, во всем светло-сером, дорогая Мария в светлой кофточке, Барбара, задумчивая, несколько, казалось, сердитая...
Пани Амброзия мне казалась в те минуты матерью, несмотря на мои с нею слишком близкие отношения, панна Барбара - сестрой, а милая Мария, Мария - милой, милой...
Мы пили кофе, панна Мария несколько неосторожно далее взглядывала на меня очень нежно.
Мохнатая теплая Зиночка лежала клубком у меня на коленях; она прижалась к моему животу. Мария сыграла какую-то красивую песенку на цитре.
Я все продолжал слышать запах ладана, как в комнате о. пробоща.
Регинские решили прийти на вокзал, чтоб проводить меня. И на вокзале мне слышался запах ладана.
Матушка с отцом держались почтительно с паней Амброзией: матушка, та даже покушалась поцеловать ей руку при здорованьи.
Дядя Бонифаций слегка подвыпил и разговаривал с отцом о чем-то очень веселом; он размахивал руками, подбоченивался...
Матушка с заплаканными глазами, осторожно, стесняясь несколько пани Амброзии, давала мне наставления.
Панны Мария и Барбара о чем-то толковали между собою, пересмеиваясь изредка.
Первый прозвонил звонок. Дядя Бонифаций с отцом примкнули к нашей группе.
Со смешным на лице выражением, не то очарованности, не то робости, Бонифаций снял свою шляпу перед Амброзией. Она протянула ему руку, которую он, чуть не споткнувшись о мой чемодан, галантно поцеловал.
Засвистел паровоз, из него пошел пар.
На площадку вагона Бонифаций внес свой и мой чемоданы. Прозвонил звонок два раза.
Панны Мария и Барбара передали мне по конвертику.
- Когда выйдет поезд из Вильны, прочтите! - в один голос сказали обе,
Звонок последний раз пробил. Матушка обняла меня крепко-крепко и громко заплакала.
- Перестань, Анна! - уговаривал ее отец, голос и у него дрожал.
Пани Амброзия легко поцеловала меня в лоб. Барбара и Мария посылали воздушные поцелуи.
Дядя Бонифаций на площадке, сам покачиваясь, поддерживал меня, или сам за меня держался. Я взглянул на матушку.
- Перестань, Анна, перестань! - И отец махал мне своей шляпой.
Засвистели, и поезд пошел. Дядя Бонифаций заплакал.